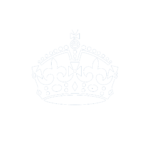Психолог онлайн по эмоциям, кризисам и отношениям — Виктор Лиотвейзен
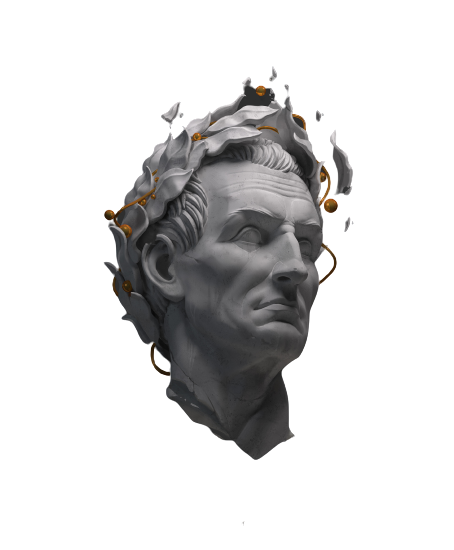
психолог онлайн. Надежная ПСИХОТЕРАПИя для вас.
Каждое занятие – это последовательный процесс точечных решений. Разумный, деликатный и оперативный подход на результат.
ПЕРВЫЙ ЭТАП
ПОдготовка к занятию
I. Предварительный звонок
В течение 1-16 часов после получения вашей заявки я напишу вам в мессенджер или отправлю СМС, чтобы согласовать дату и время.
Если сообщение не будет доставлено, то наберу вас с 11:00 до 12:30 по московскому времени на следующий день.
На предварительном звонке (≈20-25 минут) я хотел бы лучше понимать то, с чем вы столкнулись.
Звонок будет по телефону или по WhatsApp без видеосвязи.

II. Вопросы до занятия
В зависимости от описанных на предварительном звонке событий специалист сформирует список вопросов.
Ваши ответы на них дадут психологу онлайн возможность провести предварительную диагностику и своевременно начинать правильное устранение обнаруженных проблем.
Вопросы (обычно от 7 до 16 штук) будут отправлены на 2-4 день.
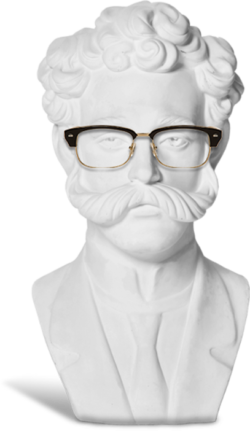
ВТОРОЙ ЭТАП
ЗАНЯТИЕ и Психотерапия
IIi. Диагностическое занятие
Хорошо, когда онлайн психолог-психотерапевт понимающим, последовательный и полезный.
Поэтому на первом занятии (при выборе психотерапии) специалист сделает акцент на поиске важной информации о вас, вашей личности, вашем понимании и восприятии реальности.
Собранная информация укажет верное направление психотерапевтическому процессу.
Длительность 80 минут по WhatsApp, Telegram или Zoom с видеосвязью.

Iv. Планирование процесса специалистом
Ваши цели требуют решения сложившейся ситуации и грамотных действий психолога-психотерапевта.
Поэтому для их достижения специалистом будет разработан психотерапевтический план-процесс. Это обеспечит высокую точность работы.
После первого занятия в течение 3-7 рабочих дней психологом онлайн будут проведены:
- анализ полученной информации от вас;
- подготовка методик;
- планирование содержания сессий.
Результат – готовая структура психотерапии для ваших целей, интересов, задач.
Затем, до седьмого дня, мы согласуем дни, время практики.

V. хАРАКТЕр психотерапевтических сессий
Сессии:
- длятся 40 минут от 1 раза в неделю;;
- по видеосвязи WhatsApp/Telegram/Zoom.
Психотерапевтические сессии могут состоять из упражнений, методик, практик-лекций, направленных разговоров.
Если вы захотите получить ответы на вопросы между сессиями, вы можете написать в чат лично.
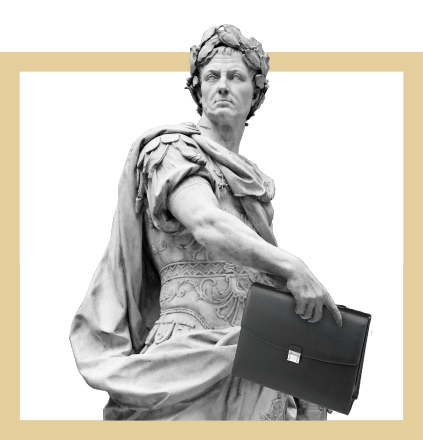
VI. Инструменты и навыки психолога
Используется эклектический подход. Может включать следующие направления:
- когнитивно-поведенческая (КПТ);
- рационально-эмоционально-поведенческая (РЭПТ);
- диалектическая поведенческая (ДБТ);
- психологическую консультацию;
- принятия и ответственности
в сочетании с психологией
- по отношениям;
- прикладного анализа поведения;
- управления;
- конфликтов;
- динамических межгендерных взаимоотношений.
Эклектическая психотерапия — это, когда используется более одного подхода или несколько наборов методов, которые основываться на эффективности решения проблем клиента, а не на теории, лежащей в основе каждой терапии.

ПОЧЕМУ ПСИХОТЕРАПИЯ
МОЖЕТ ВАМ ПОДОЙТИ
VII. 7 преимуществ
1. Чуткий
Мой подход включает сострадание и приверженность. Это помогает пониманию проблем. Меня мотивирует, что люди, с которыми я работаю, хотят расти и развиваться.
2. Внимательный
Системная психотерапия решает те сложности, с которыми вы сталкиваетесь. Я привержен работе — с гордостью и любовью к способности психологии и психотерапии помогать.
3. Поддерживающий
4. Аналитичный

5. Прагматичный
Я стремлюсь быть лучшим психологом-психотерапевтом. Поэтому также провожу обучение, чтобы вы смогли научиться находить и решать проблемы.
6. Целеустремленный
Поэтому планирую процесс так, чтобы правильно определять приоритеты для корректной работы.
Я постоянно обучаюсь по отдельным направлениям практической психологии, доказательной психотерапии, чтобы точечно использовать их.
7. Благополучный
С успехом веду практику (9 лет) по следующим направлениями:
- эмоциональные кризисы
- расстройства/акцентуации
- смешанные состояния
Положительный долгосрочный результат у 97,1%.

VIII. Что вы получите
В рамках нашей работы вы сможете:
- выделить приоритеты;
- сохранять фокус на цели;
- расширить ваши навыки;
- найти решения;
- лучше понимать себя;
- научиться влиять на эмоции, мысли и поведение;
- создать новые паттерны мышления и поведения;
- использовать знания.

СКОЛЬКО СТОИТ
психолог онлайн Цена
IX. варианты
Цикл №1 (занятие +7 сессий)
Цикл №2 (занятие +10 сессий) / расширенный
Предварительный звонок
Подготовительные вопросы до занятия
Планирование психотерапии
Онлайн чат между сессиями
Стоимость 1 часа
3 125 ₽
2 580 ₽
Длительность первого занятия
80 минут
80 минут
Количество следующих сессий
7 (по 40 минут)
11 (по 40 минут)
Всего часов
6 часов
8 час 40 минут
Цена
18 750 ₽
22 360 ₽
ХОТИТЕ ЗАПИСАТЬСЯ?
Можно записаться через Вотсап (будет открыт чат):
Или через форму
Я работаю по 100% оплате, но понимаю, что могут быть разные ситуации, поэтому готов к обсуждению разделения платежа на 2 части.
Для кого-то и 1,5 часов хватит, чтобы охватить то, что необходимо, а кому-то и 50 будет недостаточно.
От 7 до 10 дней.
Вы можете посмотреть их здесь.
Загляните в раздел часто задаваемых вопросов